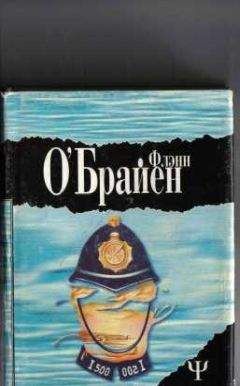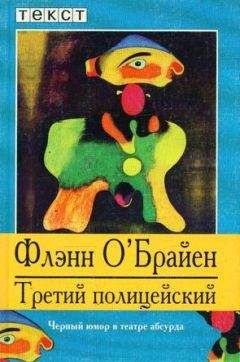У тебя нет и никогда не было золотых американских часов.
И тут со мной опять произошло нечто странное.
Дорога, по которой я шел, начала понемногу поворачивать влево, и по мере того, как я приближался к повороту, сердце то принималось учащенно биться, то вдруг вроде бы совсем замирало. Мною овладели волнение и возбуждение, совершенно непонятно откуда взявшиеся. Ничего такого, что могло бы способствовать возникновению подобного состояния, нигде не наблюдалось; сколько я ни крутил головой, никаких заметных изменений вокруг не заметил. Несмотря на все растущее беспокойство, я продолжал свой путь, постоянно оглядываясь вокруг.
Дорога все круче забирала влево, и когда поворот закончился, передо мною открылось поразительное зрелище.
С левой стороны, метрах в ста от дороги, я увидел дом, который вызвал у меня крайнее недоумение и даже замешательство. На первый взгляд он выглядел нарисованным, причем нарисованным неубедительно, неверно и вообще из рук вон плохо, словно на придорожной рекламе. Казалось, что у дома начисто отсутствует третье измерение – глубина. Высота есть, ширина есть, а вот глубины – нет. Такое изображение не могло бы обмануть и ребенка – даже несмышленое дитя не поверило бы в то, что перед ним настоящий дом, а не дурно намалеванная картинка. Но не эта неумелость в рисовании так поразила меня – в конце концов, я и раньше видывал предостаточное количество плохо нарисованной рекламы, словно на потеху выставленной у дороги. Привело меня в крайнее недоумение совсем другое: я был уверен неизвестно откуда взявшейся и прочно засевшей во мне уверенностью, что передо мной именно тот дом, который я ищу. Не сомневался я и в том, что внутри этой плоской, неумелой конструкции кто-то находится. Я знал Бог весть откуда пришедшим ко мне знанием, что это и есть та самая казарма, в которой я найду нужных мне полицейских. Но никогда ранее моим глазам не доводилось созерцать что-то более противоестественное и гадкое. Мой взгляд в полной растерянности ползал по этой плоскости, которую и домом-то не назовешь, и чем пристальнее я всматривался, тем больше убеждался в том, что дом совершенно плоский – как огромный лист бумаги. Но если у дома нет, по крайней мере, одного из трех необходимых для такого строения измерений, то какой прок от такого дома? Если не считать встречи со стариком, сидевшим в углу темной комнаты, наружность этого дома оказалась величайшей и пренеприятнейшей неожиданностью в моей жизни. И мне почему-то стало страшно.
Но тем не менее я продолжал идти вперед, хотя и помедленнее, чем раньше. По мере того как я приближался, дом, казалось, менял свой облик. В какой-то момент он вдруг вообще перестал походить хотя бы приблизительно на подобие человеческого жилища – его очертания потеряли четкость, и он стал выглядеть так, словно я смотрел на него сквозь волнующуюся воду, по поверхности которой пошла рябь. Когда очертания снова приобрели ясность, я увидел, что дом все же не совершенно плоский, а обладает некоторой толщиной, в которой могли бы, наверное, разместиться и кое-какие комнаты. Всматриваясь в постоянно меняющуюся наружность дома, я неожиданно с недоумением осознал, что вижу как бы одновременно и переднюю, и заднюю часть дома, но не вижу никакой боковой стороны. Тогда я решил, что дом, наверное, треугольный и вершина одного из его углов направлена прямо в мою сторону. Когда до дома оставалось не больше десятка метров, я заметил окошко, которого раньше не видел, – оно было размещено под таким углом, что это навело меня на мысль о наличии у дома, по крайней мере, одной боковой стороны. Дом отбрасывал вполне обычную тень, как и положено любому нормальному дому в солнечный день, но когда я вошел в эту тень, у меня от неизъяснимого страха и непонятного напряжения, вдруг охвативших меня, пересохло во рту и по телу пробежала потливая дрожь.
С близкого расстояния дом производил вполне заурядное впечатление, если не считать его необычной белизны и совершенно полной застылости. Дом подавлял и пугал. Вся природа вокруг, весь мир – все потеряло самостоятельное значение, все теперь существовало лишь затем, чтобы служить дому как бы рамой, обрамлять его, придавать ему важность, значительность и вещественность, благодаря которым я, со своими примитивными пятью чувствами, мог отыскать его и притвориться, что понимаю, почему он таков, каков он есть, и зачем он здесь стоит. Подняв голову, я увидел над дверью герб, который сообщил мне, что передо мной полицейский участок. Должен признать, таких полицейских участков мне никогда ранее видеть не доводилось. Я затруднился бы сказать, почему я тогда не остановился, не сел на травке у края дороги, не обдумал все хорошенько, почему мое крайне взвинченное состояние не подсказало мне, что следовало бы развернуться и бежать от того места подальше. Я не только не остановился, но даже, подойдя к двери и открыв ее, вошел вовнутрь.
В небольшой, чисто выбеленной комнатке я увидел невероятных размеров полицейского, стоящего ко мне спиной. Даже спина его казалась необычной. Полицейский стоял рядом с конторкой перед зеркалом, висевшим на стене. По отражению в зеркале было видно, что он, широко раскрыв рот, что-то в нем высматривает. Не могу наверняка сказать, по какой именно причине фигура полицейского показалась мне столь необычной, полностью выходящей за рамки привычного. Да, он выглядел огромным и непомерно толстым, соломенные волосы обильными космами свисали низко, почти до плеч, прикрывая местами словно вздутую, бычью шею, – все эти черты по отдельности производили странное впечатление, но ничего особенного, непостижимо необычного в них не наблюдалось. Мой взгляд прошелся по необъятной спине полицейского, по его ручищам и ножищам, заключенным в форму из грубой синей ткани. И тогда я осознал, что все части фигуры полицейского, взятые не по отдельности, а вместе, как составляющие единое целое, производят исключительно тяжкое впечатление неестественности, граничащей с чудовищным или ужасным. Такое впечатление, возможно, возникало потому, что между этими частями существовало какое-то трудноуловимое несоответствие в сочетаемости или в пропорциях. Я обратил внимание на его руки – огромные, красные, словно обваренные, опухшие, одну из которых он чуть ли не до половины засунул себе в рот.
– Мои зубы, ох, мои зубы, – рассеянно пробормотал полицейский.
Хотя он явно обращался к самому себе, я его расслышал. Голос у него был тяжелым и слегка приглушенным, и я почему-то сразу вспомнил о тяжелом зимнем одеяле. Возможно, когда я входил, то произвел небольшой шум, а возможно, полицейский увидел мое отражение в зеркале, но так или иначе, он стал медленно поворачиваться, перемещая свой огромный вес с неторопливым достоинством, и даже, я бы сказал, с тяжеловесным величием. При этом пальцы руки все еще оставались у него во рту, где он что-то ими перебирал или щупал. Когда полицейский наконец повернулся лицом ко мне, то опять тихо пробормотал – и опять я его услышал:
– Почти все болезни от зубов.
Его лицо вызвало у меня очередное изумление – до того оно было оплывшим и красным. Жировые складки свисали с него со всех сторон, подминая под себя ворот форменной рубашки; голова неловко сидела на плечах, полностью раздавив шею, все вместе это напоминало мешок с мукой. Нижняя часть лица была скрыта оттопыренными, непомерных размеров рыжими усами, которые торчали в воздухе, словно усики или щупальца какого-то неведомого животного. Его пухлые – или скорее надутые как воздушные шарики – щеки своими красно-розовыми массами почти полностью скрывали глаза, которые сверху к тому же прикрывали растущие пучками брови. Полицейский тяжело, всеми своими телесами вдвинулся за конторку, а я, смиренно и кротко прошествовав от двери, приблизился к конторке с другой стороны. Теперь мы стояли лицом к лицу.
– Вы по поводу велосипеда? – вдруг спросил полицейский.
Выражение его лица, когда я к нему присмотрелся, неожиданно оказалось ободряющим и вполне дружелюбным. Несмотря на то, что лицо это заплыло жиром, и черты его были весьма грубыми, ему удалось каким-то ловким образом организовать и изменить эти черты, по отдельности весьма неприятные, так что все в целом стало выражать добродушие, вежливость и бесконечную терпеливость. На тулье его полицейской фуражки, прямо над козырьком, располагалась важного вида кокарда, на которой золотыми буквами было написано: СЕРЖАНТ. Передо мною был сержант Отвагсон.
– Нет, я по другому делу, – промямлил я, и вытянув вперед правую руку, уперся ею в конторку, чтобы не упасть.
– Так вы уверены, что не по поводу велосипеда? – переспросил сержант, глядя на меня так, словно в это было трудно поверить.
– Совершенно уверен.
– И не по поводу мотоцикла?
– Нет, и не по поводу мотоцикла.
– Я имею в виду тот, что с клапанами и динамо-машиной для лампочки? Или тот, что с рулем от гоночного велосипеда?